Либертарианство: этические основы. Часть 2. Консеквенциализм
Автор: Мэтт Зволински
Оригинальная статья: Libertarianism
Перевод: телеграм-канал Libertarian Social Justice (@lsj_ru)
Часть 1. Естественное право
Часть 2. Консеквенциализм
Часть 3. Анархо-капитализм, телеология, контрактарианство
3. Консеквенциалистское либертарианство
В то время как либертарианство Нозика черпает вдохновение у Локка и Канта, существует еще одна разновидность либертарианской философии, которая восходит к Дэвиду Юму, Адаму Смиту и Джону Стюарту Миллю. Согласно этой разновидности, политические принципы либертарианства основаны не на самопринадлежности или естественных правах человечества, а на благотворных последствиях, которые производят либертарианские права и институты по сравнению с возможными и реалистичными альтернативами. В той мере, в какой такие теоретики считают, что последствия и только последствия имеют значение для оправдания либертарианства, их можно корректно назвать формой консеквенциализма. Некоторые из этих консеквенциалистских форм либертарианства утилитарны. Но консеквенциализм не идентичен утилитаризму, и в этом разделе будут исследованы как традиционные количественные (quantitative) утилитарные защиты либертарианства, так и другие формы, которые труднее классифицировать.

а. Количественный (quantitative) утилитаризм
С философской точки зрения, подход, который пытается оправдать политические институты, демонстрируя их стремление к максимальному увеличению полезности, берет свое начало в идеях Иеремии Бентама, реформатора права и теоретика морали. Но, хотя Бентам не был сторонником неограниченного невмешательства (laissez-faire), его подход оказал огромное влияние на экономистов, особенно на экономистов Австрийской и Чикагской школ, многие из которых использовали утилитарный анализ в защиту либертарианских политических выводов. Некоторые влиятельные экономисты были идейными либертарианцами, наиболее известными из которых были Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайек, Джеймс Бьюкенен и Милтон Фридман (последние трое — лауреаты Нобелевской премии).

Ричард Эпштейн — больше теоретик права, чем экономист, — тем не менее использует утилитаристскую аргументацию вкупе с экономическим анализом права для защиты своей версии классического либерализма. Его работы «Принципы свободного общества» (1998) и «Скептицизм и свобода» (2003), вероятно, являются наиболее философскими из современных утилитаристских обоснований либертарианства.
Работу Бьюкенена обычно называют контрактарной, хотя она, безусловно, в значительной степени опирается на утилитаристский анализ. Она тоже в высшей степени философская.
Утилитаристская защита либертарианства обычно состоит из двух частей: утилитарных аргументов в поддержку частной собственности и свободного обмена и утилитарных аргументов против политики правительства, выходящей за рамки минимального государства. Утилитарные обоснования частной собственности и свободного обмена слишком разнообразны, чтобы их можно было подробно описать в одной статье. Однако для целей данной статьи основное внимание будет уделено двум основным аргументам, которые оказали особое влияние: так называемый аргумент «Трагедия общин» в пользу частной собственности и аргумент «Невидимая рука» в пользу свободного обмена.

i. Трагедия общин и частная собственность
Аргумент «Трагедия общин» отмечает, что при определенных условиях, когда собственность находится в общем владении или, что эквивалентно, никому не принадлежит, она будет использоваться неэффективно и быстро истощаться. В своем первоначальном описании проблемы общин Гаррет Хардин просит нас представить открытое для всех пастбище, на котором различные пастухи пасут свой скот (Hardin 1968). Каждое дополнительное животное, которое пастух может пасти, означает большую прибыль для пастуха, который единолично получает всю выгоду. Конечно, добавление скота на пастбище также связано с затратами с точки зрения тесноты и снижения отдачи земли, но, что важно, эти издержки на дополнительный выпас (в отличие от выгоды) распределяются между всеми пастухами. Поскольку каждый пастух, таким образом, получает полную выгоду от каждого дополнительного животного, но несет только часть распределенных затрат, ему выгодно пасти все больше и больше животных на земле. Но поскольку эта же логика одинаково хорошо применима ко всем пастухам, мы можем ожидать, что все они будут действовать таким образом, в результате чего пропускная способность поля будет быстро превышена.
Трагедия трагедии общин особенно очевидна, если мы смоделируем ее как дилемму заключенного, в которой каждая сторона имеет возможность пасти дополнительных животных или не пасти. (См. Рисунок 1 ниже, где A и B обозначают двух пастухов, «пасти» и «не паси» их возможные варианты, а также четыре возможных результата их совместных действий. В каждом прямоугольнике расположены два числа, которые обозначают пользу каждого пастуха при данном результате, причем пользу A указана слева, а пользу B справа. (Например, для ситуации, в которой А принимает решение пасти, а В — не пасти, польза для А составляет 0 единиц, а польза для В — 5 единиц.)

Как следует из приведенного выше анализа, наилучшим решением для каждого отдельного пастуха является выпас дополнительного животного, при условии, что другой пастух не сделает того же самого. Тогда первый пастух пожинает все выгоды и получает только часть издержек. И наоборот, худший вариант для каждого отдельного пастуха — воздерживаться от выпаса еще одного животного, в то время как другой пастух наоборот добавляет животное. В этой ситуации пастух несет расходы, но не получает никакой выгоды. Важна взаимосвязь между двумя другими возможными исходами. Для обоих пастухов было бы лучше, если бы ни один из них не добавлял дополнительный скот, по сравнению с результатом, когда оба пастухи пасут по одному дополнительному животному каждый. Мы можем предположить, что долгосрочные выгоды от работы в пределах пропускной способности земель перевешивают краткосрочные выгоды от взаимного перевыпаса. Однако по логике дилеммы заключенного рациональные заинтересованные в выгоде пастухи не предпочтут взаимное сдерживание эксплуатации ресурсов. Это связано с тем, что, пока затраты на чрезмерный выпас частично покрываются перенесенными (externalized) на других пользователей ресурса издержками, каждый пастух заинтересован в чрезмерном выпасе, независимо от того, что делает другая сторона. Говоря языком теории игр, чрезмерный выпас преобладает над сдержанностью. В результате этого не только потребляются ресурсы, но и обеим сторонам становится хуже по отдельности, чем могло бы быть. Взаимный чрезмерный выпас создает ситуацию, которая не только дает более низкую общую полезность, чем взаимное сдерживание (2 против 6), но и уступает по Парето взаимному сдерживанию — по крайней мере, одна сторона (на самом деле, обе!) выиграли бы от взаимного сдерживания без ухудшения положения кого-либо.
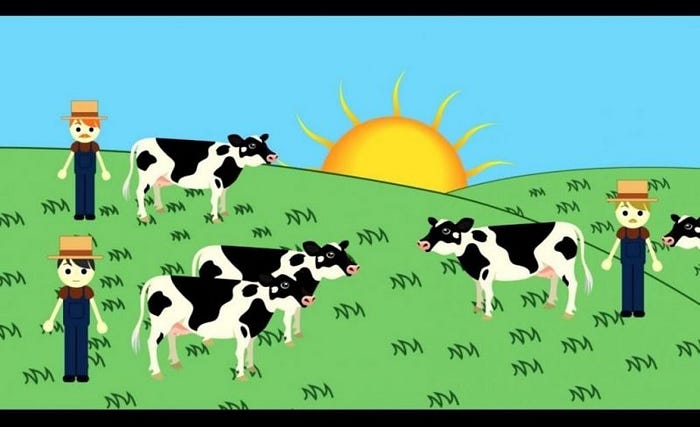
Классическое решение трагедии общин — частная собственность. Напомним, что трагедия возникает из-за того, что отдельные пастухи не несут полную стоимость своих действий. Поскольку земля является общей для всех, затраты на чрезмерный выпас частично перекладываются на других пользователей ресурса. Но частная собственность все меняет. Если бы поле не было общедоступным для всех, а было бы разделено на более мелкие участки частной собственности, то пастухи имели бы право запрещать другим пользоваться их собственностью. Человек может пасти скот только на своем собственном поле или на чужих полях на условиях, установленных его владельцами, а это означает, что расходы на такой чрезмерный выпас (с точки зрения уменьшения пригодности земли для использования или уменьшения перепродажной стоимости из-за уменьшения пригодности) будет нести только он один. Частная собственность заставляет людей взять на себя (internalize) стоимость своих действий, а это, в свою очередь, дает людям стимул к разумному использованию ресурсов.
Урок состоит в том, что, создавая и уважая права частной собственности на внешние ресурсы, правительства могут дать людям стимул для эффективного использования этих ресурсов без необходимости в сложном государственном регулировании и надзоре за ресурсами. Либертарианцы использовали эту базовую мудрость, чтобы обосновать многие вещи, от приватизации дорог (Klein and Fielding, 1992) до применения частной собственности в качестве решения различных экологических проблем (Anderson and Leal 1991).
II. Невидимая рука и свободный обмен
Либертарианцы считают, что отдельные лица и группы должны иметь право торговать практически всем, чем они хотят, с кем бы они ни пожелали, без каких-либо правительственных ограничений. Поэтому они выступают против законов, которые запрещают определенные виды обмена (например, запрет на проституцию и продажу запрещенных наркотиков, законы о минимальной заработной плате, которые фактически запрещают трудовые соглашения с низкой заработной платой и т. д.), а также законы, которые обременяют обмены, налагая высокие транзакционные издержки (например, импортные пошлины).
Причина, по которой либертарианцы-утилитаристы поддерживают свободный обмен, заключается в том, что, по их мнению, он имеет тенденцию передавать ресурсы в руки тех, кто их больше всего ценит, и тем самым увеличивает общую полезность в обществе. Первый шаг к этому — понять, что даже если сделка является игрой с нулевой суммой в терминах объектов, которые продаются (ничего не создается и не уничтожается, только перемещается), это игра с положительной суммой с точки зрения полезности. Это связано с тем, что люди различаются по субъективной полезности, которую они приписывают товарам. Человек, планирующий переехать из Чикаго в Сан-Диего, может приписать относительно низкую ценность своей громоздкой тяжелой мебели. Переехать сложно и дорого, и в любом случае старая мебель может не соответствовать стилю нового дома. Но для кого-то, кто только что переехал в пустую квартиру в Чикаго, эта мебель может иметь действительно очень высокую ценность. Если первый человек оценивает мебель в 200 долларов (или эквивалентную сумму с точки зрения полезности), а второй оценивает ее в 500 долларов, оба выиграют, если они обменяются по цене, находящейся между этими двумя значениями. Каждый откажется от чего-то менее ценного в обмен на то, что для него важнее, и в результате чистая полезность возрастет.
Как заметил Фридрих Хайек, большая часть информации об относительных значениях полезности, присваиваемой различным товарам, передается различным участникам рынка через систему цен (Hayek, 1980). Повышение цены на ресурс сигнализирует о том, что спрос на этот ресурс увеличился по сравнению с предложением. Потребители могут отреагировать на это повышение цен, продолжив потреблять ресурс по более высокой цене, переключившись на заменяющий товар или полностью прекратив использование такого рода ресурсов. На решение каждого человека влияет цена соответствующих ресурсов и каждое решение влияет на цену в той мере, в какой оно увеличивает или уменьшает совокупный спрос и предложение. Таким образом, хотя он, как правило, об этом и не подозревает, человек, принимая решение, отвечает на решения миллионов других потребителей и производителей ресурса, каждый из которых основывает свое решение на собственных специализированных местных знаниях об этом ресурсе. И хотя все, что пытаются сделать эти люди, — это максимизировать свою собственную полезность, каждый человек будет вынужден действовать таким образом, чтобы ресурс был максимально полезен. Те, кто извлекает наибольшую пользу из этого товара, предложат для его использования больше, чем другие, а другие будут вынуждены искать более дешевые заменители.
По этой причине, и под глубоким влиянием Австрийской экономической школы, рынок был представлен как непрерывный процесс конкуренции, открытий и инноваций. Рыночные цены образуют совокупность информации и, таким образом, обычно дают преимуществом по сравнению с тем, что любой человек мог бы надеяться узнать самостоятельно, однако отдельные решения, на основании которых возникают рыночные цены, сами по себе основаны на несовершенной информации. Всегда есть возможности, которые еще никто не открыл, и с течением времени, изменение предпочтений людей и развитие новых технологических возможностей гарантирует, что это незнание никогда не будет полностью преодолено. Таким образом, рынок никогда не находится в состоянии конкурентного равновесия и всегда будет «терпеть неудачу» при тесте на идеальную эффективность. Но именно сегодняшние рыночные сбои дают завтрашним предпринимателям возможность получать прибыль за счет новых инноваций (Kirzner 1996). Конкуренция — это процесс, а не цель, которую нужно достичь, и это процесс, движимый конкретными решениями людей, которые в большинстве своем не осведомлены об общих и долгосрочных тенденциях своих решений, принимаемых в целом. Даже если ни один рыночный субъект не заботится об увеличении совокупного уровня полезности в обществе, он, как писал Адам Смит, «будет ведом невидимой рукой, заставляющей его добиваться результата, который никак не входил в его намерения» (Smith 1981). Разрозненные знания миллионов участников рынка будут учтены при формировании распределения, максимально приближенного к тому, которое было бы выбрано добрым, всеведущим и всемогущим деспотом. Однако в действительности все, что требуется от правительства для достижения этой цели, — это определение и обеспечение соблюдения четких прав собственности и создание условий для свободной адаптации системы цен к меняющимся условиям.
iii. Аргументы против государственного вмешательства
Приведенные выше два аргумента в случае успеха демонстрируют, что свободный рынок и частная собственность дают хорошие утилитарные результаты. Но даже если это так, остается возможность, что избирательное вмешательство государства в экономику может привести к еще лучшим результатам. Правительства могут использовать налогообложение и принуждение для предоставления общественных благ или предотвращения других видов сбоев рынка, таких как монополии. Или правительства могут участвовать в перераспределительном налогообложении на том основании, что, учитывая убывающую предельную полезность богатства, это обеспечит более высокие уровни общей полезности. Таким образом, чтобы поддержать свое неприятие государственного вмешательства, либертарианцы должны представить аргументы, доказывающие, что такая политика не принесет большей пользы, чем политика невмешательства (laissez-faire). Приводить такие аргументы — это что-то вроде ремесла среди экономистов-либертарианцев, и поэтому мы не можем надеяться дать здесь исчерпывающее резюме. Однако особое влияние оказали две основные категории аргументов. Мы можем назвать их аргументами от стимулов и аргументами от общественного выбора.
Аргументы, основанные на стимулах, исходят из утверждения, что государственная политика, направленная на продвижение полезности, на самом деле создает у людей стимулы к действиям, которые противоречат продвижению полезности. Примеры таких аргументов включают доводы, что (а) предоставляемые государством (социальные) пособия дестимулируют людей принимать ответственность за собственное экономическое благополучие (Murray 1984), (б) законы об обязательной минимальной заработной плате порождают безработицу среди низкоквалифицированных рабочих (Friedman 1962, 180–181), (в) законодательный запрет наркотиков создает черный рынок с завышенными ценами, низким контролем качества и насилием (Thornton 1991), и (г) более высокие налоги заставляют людей меньше работать и/или меньше инвестировать, и следовательно, приведут к спаду экономического роста.
Аргументы от общественного выбора, с другой стороны, часто используются либертарианцами, чтобы опровергнуть предположение о том, что правительство будет использовать свои полномочия для продвижения общественных интересов так, как утверждают его сторонники. Общественный выбор как раздел экономической теории основан на предположении, что модель рационального личного интереса, обычно используемая экономистами для прогнозирования поведения рыночных агентов, может также использоваться для прогнозирования поведения государственных агентов. Однако считается, что правительственные агенты не стремятся максимизировать прибыль, а стремятся к переизбранию (в случае выборных должностных лиц) или поддержанию/расширению бюджета и влияния (в случае бюрократов). Исходя из этой базовой аналитической модели, теоретики общественного выбора утверждали, что (а) тот факт, что издержки на многие виды политики широко распределяются между налогоплательщиками, в то время как их выгоды часто концентрируются в руках небольшого числа бенефициаров, означает, что даже крайне неэффективные стратегии будут приняты, а после их принятия их будет очень трудно устранить, (б) политики и бюрократы будут участвовать в «погоне за рентой» (rent-seeking), эксплуатируя свои полномочия для личной выгоды, а не для общественного блага, и (в) некоторые общественные блага будут представлены политическими процессами в избыточном объеме, в то время как другие будут поставляться в недостаточном объеме, поскольку государственные субъекты не обладают ни знаниями, ни стимулами, необходимыми для обеспечения таких товаров на эффективных уровнях (Mitchell and Simmons 1994). Считается, что эти проблемы присущи политическим процессам, и их нелегко исправить законодательными или конституционными поправками. Поэтому многие приходят к выводу о том, что единственным способом минимизировать проблемы политической власти является минимизация масштабов самой политической власти путем подчинения как можно меньшему числу сфер жизни политическому регулированию.
б. Традиционалистский консеквенциализм
Количественные утилитаристы часто одновременно и рационалистичны, и радикальны в своем подходе к социальной реформе. Для них максимизация полезности служит аксиоматическим первичным принципом, на основе которого могут быть сделаны прямые политические выводы после эмпирической (или квазиэмпирической) оценки причинных связей в мире. От Иеремии Бентама до Питера Сингера сторонники количественного утилитаризма выступали за драматические изменения в социальных институтах, оправданные во имя разума и морали, которую они порождают.
Однако есть еще один вид консеквенциализма, который менее убежден в способности человеческого разума радикально реформировать социальные институты к лучшему. Для этих консеквенциалистов социальные институты являются продуктом эволюционного процесса, который, в свою очередь, является результатом решений миллионов отдельных людей. Каждый из этих людей, в свою очередь, обладает знаниями, которые, хотя и незначительны по отдельности, в совокупности представляют больше, чем любой отдельный социальный реформатор мог бы когда-либо надеяться накопить. Эта разновидность консеквенциализма рекомендует смирение, а не радикализм.
Хотя он и имеет сходство с консервативными доктринами Эдмунда Берка, Майкла Окшотта и Рассела Кирка, этот вид консеквенциализма оказал наибольшее влияние на либертарианство благодаря работам Фридриха Хайека. Хайек, однако, старается дистанцироваться от консервативной идеологии, отмечая, что его уважение к традициям основано не на фетишах статуса-кво или противодействии изменениям как таковым, а на более глубоких, отчетливо либеральных принципах (Hayek 1960). Для Хайека традиция ценна только потому, что она развивается мирным, децентрализованным образом. По этой причине социальные нормы, которые выбираются свободными людьми и выдерживают конкуренцию со стороны противоборствующих норм не прибегая к принуждению, заслуживают уважения, даже если мы не осознаем всех причин, по которым выжил данный институт. Как это ни парадоксально, Хайек считает, что мы можем рационально поддерживать институты, даже если у нас нет веских обосновывающих причин для их поддержки. Основание, по которому это может быть рациональным, заключается в том, что даже когда у нас нет существенных оправдывающих причин, у нас, тем не менее, есть оправдывающие причины в процедурном смысле — тот факт , что институт является результатом эволюционной процедуры определенного рода дает нам основание полагать, что у него есть веские причины для этого, даже если мы не знаем, какие они (Gaus 2006).

Для Хайека процедуры, которые придают оправдывающую силу институтам, по сути, позволяют людям действовать так, как они хотят, при условии, что они не действуют агрессивно по отношению к другим. Однако для Хайека этот принцип не является моральной аксиомой, а, скорее, вытекает из его убеждений относительно пределов и использования знания в обществе. Важнейшим аргументом Хайека относительно системы цен является его заявление о том, что каждый человек обладает уникальным набором знаний о своих местных обстоятельствах, особых интересах, желаниях, способностях и т.д. Система цен, если ей позволено функционировать свободно без искусственных «полов» или «потолков», будет отражать эти знания и передавать их другим заинтересованным лицам, тем самым позволяя обществу эффективно использовать рассеянные знания. Но защита Хайеком системы цен — лишь одно из применений более общей точки зрения. Тот факт, что всевозможные знания существуют в рассредоточенной форме среди многих людей, является фундаментальным фактом человеческого существования. И поскольку это знание постоянно меняется в ответ на меняющиеся обстоятельства и поэтому не может быть собрано и использовано каким-либо центральным органом власти, единственный способ эффективно использовать эти знания — дать людям свободу действовать в соответствии с ними так, как они считают нужным. Это означает, что правительство должно запрещать людям принуждать друг друга, а также само должно воздерживаться от принуждения людей. Социальный порядок, порождаемый такими добровольными действиями, — это такой порядок, который, учитывая сложность социальных и экономических систем и радикальные ограничения нашей способности приобретать знания о его конкретных деталях (Gaus 2007), не может быть навязан приказом, а должен развиваться стихийно в процессе снизу вверх. Хайек, как и Милль до него (Mill 1989), отмечает, таким образом, тот факт, что свободное общество позволяет людям проводить «эксперименты в жизни» и, следовательно, как утверждал Нозик в забытой третьей части своей книги Анархия, государство и утопия, может служить «утопией утопий», где люди могут свободно проводить свою собственную концепцию хорошей жизни с другими людьми, которые добровольно решили поделиться своим видением (Хайек, 1960 год).
Идеи Хайека о взаимосвязи между знанием, свободой и конституционным порядком были впервые подробно сформулированы в Конституции свободы, позже развиты в его трилогии Право, законодательство и свобода и получили последнее и наиболее доступное (хотя и не обязательно самое надежное (Caldwell 2005)) изложение в Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма (1988). С тех пор наиболее обширная интеграция этих идей в либертарианскую платформу была проделана в книге Рэнди Барнетта «Структура свободы», в которой Барнетт утверждает, что «полицентричный конституционный порядок» (см. ниже об анархо-капитализме) лучше всего подходит для решения не только хайековской проблемы использования знания в обществе, но и того, что он называет проблемами «интереса» и «власти» (Barnett 1998). В настоящее время идеи Хайека применяются современными философами Чандраном Кукатасом (1989; 2006) и Джеральдом Гаусом (2006; 2007).
c. Критика консеквенциалистского либертарианства
Консеквенциалистская защита либертарианства, конечно же, является разновидностью консеквенциалистской моральной аргументации и поэтому подвержена той же критике, что и консеквенциалистские моральные аргументы в целом. Более того, за пределами этой стандартной критики консеквенциалистская защита либертарианства сталкивается с четырьмя особыми трудностями.
Во-первых, консеквенциалистские аргументы вряд ли приведут к полноценному либертарианству, разве что к более умеренной форме классического либерализма. Интуитивно кажется неправдоподобным, что простая защита индивидуальных негативных свобод могла бы работать лучше, чем любой альтернативный институциональный механизм максимизации пользы, или мира, или процветания, или чего бы то ни было. И это интуитивное сомнение подкрепляется экономическим анализом, показывающим, что нерегулируемые капиталистические рынки страдают от производства негативных внешних эффектов, от монопольной власти и от недостаточного предложения определенных общественных благ, и все это требует той или иной формы государственной защиты (Buchanan 1985). Даже принимая либертарианские заявления о том, что (а) эти проблемы сильно преувеличены, (б) часто вызваны предыдущей неспособностью правительства должным образом уважать или обеспечивать соблюдение прав частной собственности, и (в) способность правительства исправить эти проблемы не так велика, как это кажется, тем не менее, нельзя априори предполагать, что правительство никогда не сможет работать лучше, чем рынок, нарушая строгие либертарианские права.
Во-вторых, консеквенциалистская защита либертарианства вызывает возражения в случаях, когда можно получить большую выгоду при очень низких издержках. Так называемые случаи «легкого спасения» (easy rescue), например, ставят под сомнение разумность соблюдения абсолютных запретов на принудительное поведение. В конце концов, если большая часть населения мира живет в крайней нищете и страдает от легко предотвратимых болезней и смертей, можно ли улучшить полезность за счет небольшого повышения налогов для богатых американцев и использования этих излишков для оказания базовой медицинской помощи тем, кто в них отчаянно нуждается? Распространенность таких случаев — вопрос эмпирический, но их возможность указывает (по крайней мере) на «хрупкость» консеквенциалистского аргумента в пользу либертарианских запретов на перераспределительное налогообложение.
В-третьих, консеквенциалистские теории, лежащие в основе этих либертарианских аргументов, часто серьезно недоработаны. Например, Рэнди Барнетт основывает свою защиту либертарианских естественных прав на утверждении, что они способствуют достижению конечного состояния «счастья, мира и процветания» (Barnett 1998). Но это оставляет без ответа множество сложных вопросов. Например, значение каждого из этих терминов стало предметом интенсивных философских споров. Какое же чувство счастья продвигает либертарианство? Что делать, если возникает конфликт и мы должны выбирать, скажем, между миром и процветанием? И в каком смысле либертарианские права «продвигают» эти цели? Они должны максимизировать счастье в совокупности? Или максимизировать счастье каждого человека? Или максимизировать взвешенную сумму счастья, мира и процветания? Ричард Эпштейн занимает более привычную и, следовательно, более твердую позицию, когда говорит, что его версия классического либерализма предназначена для максимизации полезности, но даже в этом случае утверждение, что максимизация полезности является правильной целью политических действий, утверждается без аргументов. Урок состоит в том, что, хотя консеквенциалистские политические аргументы могут показаться менее абстрактными и философичными (в уничижительном смысле), чем деонтологические аргументы, консеквенциализм, тем не менее, остается моральной теорией, и ее необходимо четко формулировать и защищать, как и любую другую моральную теорию. Возможно, потому, что консеквенциалистская защита либертарианства была выдвинута в основном нефилософами, эту проблему еще предстоит решить.
Четвертый и связанный с третьим момент касается вопросов распределения богатства, счастья, возможностей и других благ, якобы продвигаемых либертарианскими правами. Отчасти это беспокойство является общим местом для всех максимизирующих версий консеквенциализма, но это имеет особое значение в данном контексте, учитывая тесную связь между экономическими системами и проблемами распределения. Беспокойство заключается в том, что мораль или справедливость требует большего, чем просто создание изобилия богатства, счастья или чего-то еще. Помимо этого требуется, чтобы каждый человек получал справедливую долю — будь то равная доля, доля, достаточная для хорошей жизни, или что-то еще. Интуитивно либертарианские институты просто-напросто не могут гарантировать справедливое распределение, так как они лишены каких-либо средств для перераспределения этих благ от богатых к менее состоятельным. Кроме того, если допустить, что либертарианство, вероятно, приведет к неравному распределению богатства, аргумент Хайека в пользу того, что нужно полагаться на систему свободных цен для распределения товаров, уже не так силен, как казалось. Ибо мы не можем просто предполагать, что система свободных цен приведет к тому, что товары будут распределяться по их наиболее ценному назначению, если одни люди будут иметь богатство, а другие — нужду. Свободный рынок эгоистичных людей не будет раздавать хлеб голодающему, независимо от того, какую пользу он получит от еды, если он не может за нее заплатить. И такой богатый человек, как Билл Гейтс, все равно всегда сможет перебить цену бедняку за сезонные билеты на игры Сиэтл Маринерс, даже если бедняк ценит билеты намного выше, чем Гейтс, поскольку маржинальная стоимость (marginal value) долларов, которые он тратит на билеты, для него гораздо ниже, чем маржинальная стоимость долларов бедного человека. Таким образом, как по внешнему стандарту справедливости, так и по внутреннему стандарту максимизации полезности, нерегулируемые свободные рынки, как представляется, оказываются недостаточными.
